EiL Blog
Интервью с художником Никитой Пирумовым

Кажется, что для многих художников Нижнего Новгорода началом карьеры зачастую служил стрит-арт. Какой формат был первым у тебя? Было ли это связано с уличным искусством или началось сразу с других вариаций выражения?
Я никак не связан со стрит-артом, я не имею к этому абсолютно никакого отношения. Но все равно, конечно, находился в этой среде. Этого было сложно избежать, потому что в Нижнем Новгороде в десятых годах очень активно развивалось уличное искусство.
У меня был достаточно классический бэкграунд. Я закончил сначала художественную школу, потом планировал поступать в художественное училище, но вместо художественного пошел в театральное. Отучился на художника-оформителя театральных постановок, после чего какое-то время работал в театре. И это, наверное, хорошо прослеживается в моих первых художественных опытах, самостоятельных практиках, в которых я работал со своими альтер-эго. Это тоже театральная тема, – перевоплощение, примерка на себя роли другого человека – неких персонажей, художников, которым я выдумывал имена, биографию, фантазировал, как бы они могли одеваться, вести себя, и подписывал, собственно, их именами свои работы.
Я никак не связан со стрит-артом, я не имею к этому абсолютно никакого отношения. Но все равно, конечно, находился в этой среде. Этого было сложно избежать, потому что в Нижнем Новгороде в десятых годах очень активно развивалось уличное искусство.
У меня был достаточно классический бэкграунд. Я закончил сначала художественную школу, потом планировал поступать в художественное училище, но вместо художественного пошел в театральное. Отучился на художника-оформителя театральных постановок, после чего какое-то время работал в театре. И это, наверное, хорошо прослеживается в моих первых художественных опытах, самостоятельных практиках, в которых я работал со своими альтер-эго. Это тоже театральная тема, – перевоплощение, примерка на себя роли другого человека – неких персонажей, художников, которым я выдумывал имена, биографию, фантазировал, как бы они могли одеваться, вести себя, и подписывал, собственно, их именами свои работы.
Можешь рассказать поподробнее про свой новый проект «Ширма безопасности» в терминале А?
Я уже упоминал о своем театральном бэкграунде, к которому я, может быть, сейчас возвращаюсь как раз в этом проекте. В нем я провожу аналогию с таким театральным термином как «противопожарный занавес». Это гигантский металлический лист, который падает на сцену в момент задымления. Он делит пространство театра на две части. Первая – это территория партера, сцены, декораций, бархатных занавесов, которая сохраняется и остается нетронутой, а за ним находится вторая – некое подсобное помещение, гримерки, которые выгорают в случае пожара. В этом прослеживается некоторый мотив жертвенности, когда мы поступаемся каким-то маленьким помещением для того, чтобы спасти весь театр, позволить людям выйти и минимизировать ущерб. В этой серии я работаю как раз с выжженным пространством, с тем, что находится по ту сторону красивого представления, – ввожу туда лирического героя и совмещаю эти два мира.
Я уже упоминал о своем театральном бэкграунде, к которому я, может быть, сейчас возвращаюсь как раз в этом проекте. В нем я провожу аналогию с таким театральным термином как «противопожарный занавес». Это гигантский металлический лист, который падает на сцену в момент задымления. Он делит пространство театра на две части. Первая – это территория партера, сцены, декораций, бархатных занавесов, которая сохраняется и остается нетронутой, а за ним находится вторая – некое подсобное помещение, гримерки, которые выгорают в случае пожара. В этом прослеживается некоторый мотив жертвенности, когда мы поступаемся каким-то маленьким помещением для того, чтобы спасти весь театр, позволить людям выйти и минимизировать ущерб. В этой серии я работаю как раз с выжженным пространством, с тем, что находится по ту сторону красивого представления, – ввожу туда лирического героя и совмещаю эти два мира.

Стал ли этот проект каким-то органичным продолжением исследования интернет-пространства, темы думскроллинга, с которой ты работал раньше?
На самом деле, в этом проекте смешались многие мои ведущие опыты и практики. Серия «Ширма безопасности» по сути является продолжением истории с альтер-эго, истории перевоплощения, в которой появляется лирический герой. Также продолжением практики проекта «Думскроллинг», потому что возникают изображения, которые раньше было модно сохранять, картинки, которые именовались «сохраненками» в различных социальных сетях. Там довольно много распечаток интернет-мемов на принтере. Есть фрагменты, посвященные историям друзей. Например, была записка, где моя знакомая высчитывала дозировку для антидепрессантов. У нее была очень странная схема, какой-то календарь, очень сложные математические подсчеты. Я просто сделал скриншот и переписал в какой-то момент на бумагу, старался максимально удачно использовать накопленный материал.
На самом деле, в этом проекте смешались многие мои ведущие опыты и практики. Серия «Ширма безопасности» по сути является продолжением истории с альтер-эго, истории перевоплощения, в которой появляется лирический герой. Также продолжением практики проекта «Думскроллинг», потому что возникают изображения, которые раньше было модно сохранять, картинки, которые именовались «сохраненками» в различных социальных сетях. Там довольно много распечаток интернет-мемов на принтере. Есть фрагменты, посвященные историям друзей. Например, была записка, где моя знакомая высчитывала дозировку для антидепрессантов. У нее была очень странная схема, какой-то календарь, очень сложные математические подсчеты. Я просто сделал скриншот и переписал в какой-то момент на бумагу, старался максимально удачно использовать накопленный материал.
Получается, работа сразу сериями – для тебя распространенный прием. Ты как-то постепенно пришел к этому или изначально осознавал важность мыслить масштабно?
Нет, конечно, какого-то видения, нацеленности на это никогда не было. Я в шутку, наверное, периодически делю художников на интеллектуалов и эмпатов, визуалов. И я явно не отношусь к категории художников-интеллектуалов. То есть мои работы – это, скорее, интуитивные вещи, которые прощупываются со временем. Я не могу себе позволить очень многое в плане экспериментов, потому что достаточно молодой автор. Мне только недавно исполнилось 22 года. Я многое уже успел попробовать: занимался перформансом, когда это было возможно, занимался акционизмом, объектами, живописью. Для меня важно не замыкаться на какой-то одной сфере. Я понимаю, что это может быть не очень удобно для галериста, например. Ему сложно презентовать художника, у которого нет определенного лица, который сегодня занимается перформансом, завтра занимается живописью, послезавтра еще чем-то. Но, как ни странно, в моем последнем проекте все вместе удачно совместилось, хотя изначально какого-то плана или стратегии не было: я просто делал то, что мне интересно.
Расскажи про свое сотрудничество с Терминалом А, как давно ты там работаешь и как это повлияло на твои практики?
С Терминалом у нас очень трогательная история. Я познакомился с Майей Ковальски (куратор Центра современного искусства «Терминал А», прим.ред.), когда мне было около 16 лет. У меня не было ни одной выставки, я учился тогда в театральном училище и занимался достаточно классической живописью. И в какой-то момент понял, что не соответствую тому образу художника, который себе представлял. У меня начался очень активный этап поиска, изучения, потому что, к сожалению, в истории искусства, которая преподается в училище или в художественной школе, весь двадцатый век отсутствует – там все заканчивается на передвижниках. И в этот период я познакомился с Майей. Она начала включать мои первые проекты в Терминал и всячески способствовала моему развитию как художника.
Нет, конечно, какого-то видения, нацеленности на это никогда не было. Я в шутку, наверное, периодически делю художников на интеллектуалов и эмпатов, визуалов. И я явно не отношусь к категории художников-интеллектуалов. То есть мои работы – это, скорее, интуитивные вещи, которые прощупываются со временем. Я не могу себе позволить очень многое в плане экспериментов, потому что достаточно молодой автор. Мне только недавно исполнилось 22 года. Я многое уже успел попробовать: занимался перформансом, когда это было возможно, занимался акционизмом, объектами, живописью. Для меня важно не замыкаться на какой-то одной сфере. Я понимаю, что это может быть не очень удобно для галериста, например. Ему сложно презентовать художника, у которого нет определенного лица, который сегодня занимается перформансом, завтра занимается живописью, послезавтра еще чем-то. Но, как ни странно, в моем последнем проекте все вместе удачно совместилось, хотя изначально какого-то плана или стратегии не было: я просто делал то, что мне интересно.
Расскажи про свое сотрудничество с Терминалом А, как давно ты там работаешь и как это повлияло на твои практики?
С Терминалом у нас очень трогательная история. Я познакомился с Майей Ковальски (куратор Центра современного искусства «Терминал А», прим.ред.), когда мне было около 16 лет. У меня не было ни одной выставки, я учился тогда в театральном училище и занимался достаточно классической живописью. И в какой-то момент понял, что не соответствую тому образу художника, который себе представлял. У меня начался очень активный этап поиска, изучения, потому что, к сожалению, в истории искусства, которая преподается в училище или в художественной школе, весь двадцатый век отсутствует – там все заканчивается на передвижниках. И в этот период я познакомился с Майей. Она начала включать мои первые проекты в Терминал и всячески способствовала моему развитию как художника.
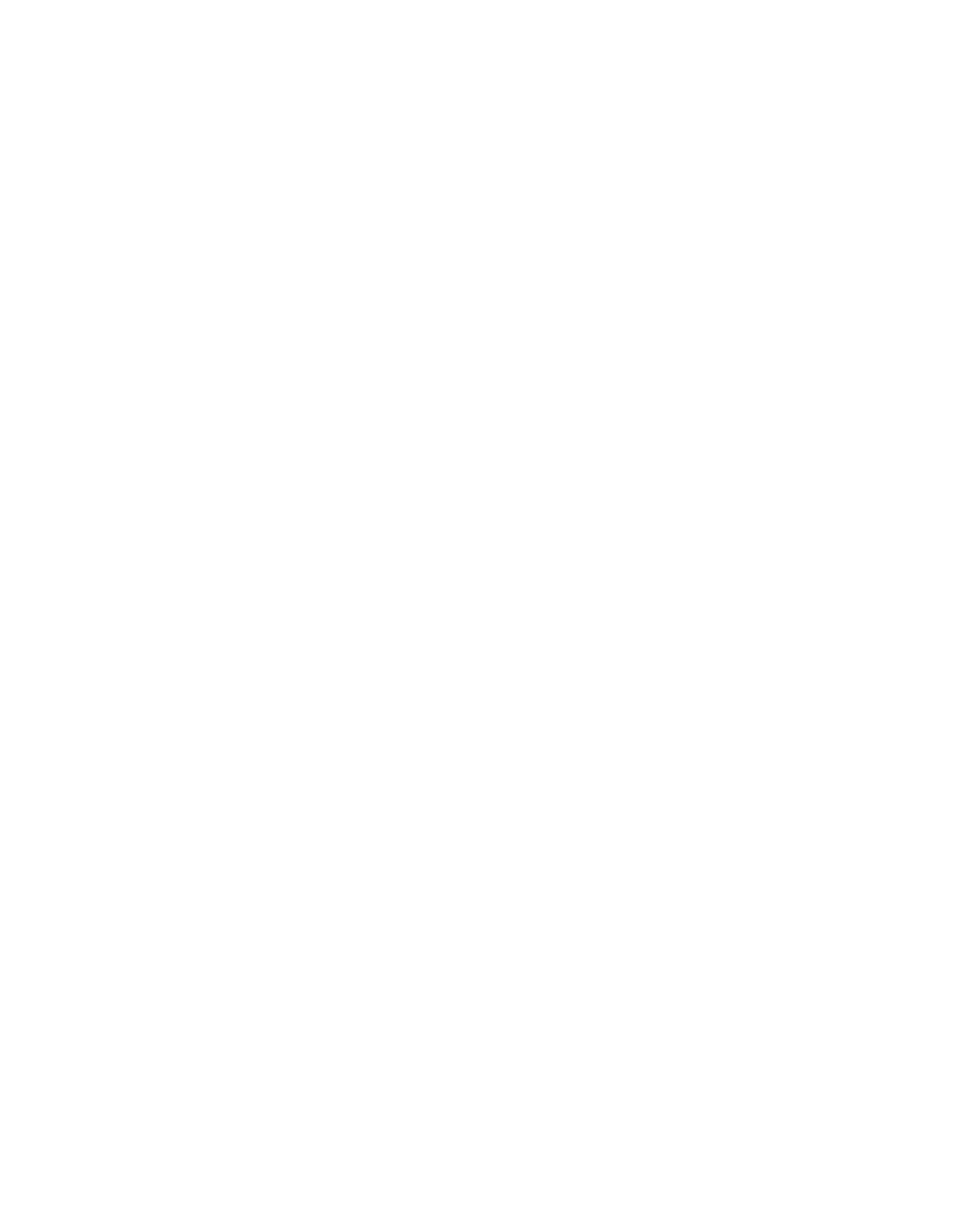
Чувствуешь ли ты какую-то специфику в том, как происходит взаимодействие между художниками, сообществом и аудиторией в твоем родном Нижнем Новгороде?
Нижний Новгород – это максимально комфортная для меня площадка, в которой я могу сконцентрироваться на своих практиках, где меня мало что отвлекает от работы. Москва, например, меня затягивает и отвлекает своими бесконечными открытиями, тусовками, постоянным нетворкингом. И в принципе, Нижний – это город молодежи, здесь отсутствует своя школа, которая есть в Петербурге и в Москве, где уже сформированы устоявшиеся авторы. Здесь есть такие, как Артем Филатов и Володя Чернышев, но это не те мэтры, с которыми чувствуется сильный разрыв, в том числе, в плане возраста. Нижний Новгород более молодой, более подвижный и пластичный для художественных экспериментов, новых авторов, это столица молодого искусства.
А взаимодействие с другими художниками как-то влияет на тебя?
Конечно, да, это на меня очень сильно влияет. Я думаю, когда ты молодой автор, нужно со всеми общаться, может быть, даже иногда что-то в хорошем, здравом ключе заимствовать. Мне кажется, прекрасно, когда существует живая, подвижная структура обмена опытом и идеями. Вообще, на любого художника очень сильно влияют другие художники из его окружения. У меня, например, была такая история, когда я работал в Петербурге. Там мы снимали мастерскую вместе с Машей Королёвой из Объединения (журнал и онлайн-галерея современного искусства, прим.ред.). Она делает абстрактные, экспрессивные, большие полотна. Я в какой-то момент начал понимать, что некоторые вещи из ее полотен мне близки. И это интуитивно, как-то неосознанно повлияло на мое творчество.
Нижний Новгород – это максимально комфортная для меня площадка, в которой я могу сконцентрироваться на своих практиках, где меня мало что отвлекает от работы. Москва, например, меня затягивает и отвлекает своими бесконечными открытиями, тусовками, постоянным нетворкингом. И в принципе, Нижний – это город молодежи, здесь отсутствует своя школа, которая есть в Петербурге и в Москве, где уже сформированы устоявшиеся авторы. Здесь есть такие, как Артем Филатов и Володя Чернышев, но это не те мэтры, с которыми чувствуется сильный разрыв, в том числе, в плане возраста. Нижний Новгород более молодой, более подвижный и пластичный для художественных экспериментов, новых авторов, это столица молодого искусства.
А взаимодействие с другими художниками как-то влияет на тебя?
Конечно, да, это на меня очень сильно влияет. Я думаю, когда ты молодой автор, нужно со всеми общаться, может быть, даже иногда что-то в хорошем, здравом ключе заимствовать. Мне кажется, прекрасно, когда существует живая, подвижная структура обмена опытом и идеями. Вообще, на любого художника очень сильно влияют другие художники из его окружения. У меня, например, была такая история, когда я работал в Петербурге. Там мы снимали мастерскую вместе с Машей Королёвой из Объединения (журнал и онлайн-галерея современного искусства, прим.ред.). Она делает абстрактные, экспрессивные, большие полотна. Я в какой-то момент начал понимать, что некоторые вещи из ее полотен мне близки. И это интуитивно, как-то неосознанно повлияло на мое творчество.

Может быть, выделишь имена, которые хотелось бы подчеркнуть с точки зрения наиболее заметного влияния на твою практику?
Есть, например, южноафриканский фотограф Роджер Баллен, который известен своими клипами для Die Antwoord. У него просто потрясающие фотографии, и, пока я занимался последним проектом, не стесняясь открывал его инстаграм и вдохновлялся, пытался как-то пропустить через себя его работы. Также, например, Марлен Дюма – это уже моя альма-матер.
Со своими друзьями-художниками я не соперничаю. Мне нравится идея товарищества, в котором все сосуществуют, обмениваются идеями. Когда есть единомышленники, с которыми можно разделить взгляды.
Хочется еще немного поговорить о твоем более раннем проекте-исследовании Интернет-пространства. Из опыта последних лет мы знаем, что, практика думскроллинга, как правило, оказывает на читателя негативный эффект. Как работа с этой темой отражается на тебе?
Исследование думскроллинга было, на самом деле, моим осознанным шагом. Это, скорее, художественный метод, с которым я сейчас работаю. В какой-то степени она похожа на практику селфхарма, в процессе которой ты дергаешь за ниточки, оголенные нервы, манипулируя и вводя себя в нужные состояния, которые тебе интересны и с которыми ты хочешь в дальнейшем работать. Я сам сравниваю это с погружением в кроличью нору, в сеть, которая образует лабиринты, такие тернистые, закольцованные, с множеством веток и корней, через которые необходимо пробраться. Это моя практика, с помощью нее я проживаю новые опыты, что очень важно для художника.
Это позволяет тебе найти ответ на какие-то вопросы?
Нет, это точно не про ответы на вопросы. Художники не дают никаких ответов, а искусство, с моей точки зрения, абсолютно не для этого нужно. Мне кажется, задача искусства в том, чтобы выворачивать, показывать другой мир и иное восприятие. Художники, в первую очередь, говорят только про себя, вспоминают свой опыт. Это эгоистичные существа, зацикленные на себе, на своих чувствах и переживаниях. Наблюдение за экспериментами художника, пусть и не дает ответов, но для зрителя может быть как минимум любопытным.
Расскажи о векторах, в которых сейчас двигаешься, над чем работаешь. Может быть, есть что-то, чем готов поделиться?
На данный момент я хочу продолжать проект «Ширма безопасности» и прощупывать дальше свой визуальный язык. Мне кажется, новая серия хорошо совместила в себе мои предыдущие практики. Я понимаю, что расту вместе со своим искусством. Мне это нравится, потому что меняюсь я – меняется мой художественный язык. И в силу того, что моя карьера только начинается, я могу себе это позволить.
Есть, например, южноафриканский фотограф Роджер Баллен, который известен своими клипами для Die Antwoord. У него просто потрясающие фотографии, и, пока я занимался последним проектом, не стесняясь открывал его инстаграм и вдохновлялся, пытался как-то пропустить через себя его работы. Также, например, Марлен Дюма – это уже моя альма-матер.
Со своими друзьями-художниками я не соперничаю. Мне нравится идея товарищества, в котором все сосуществуют, обмениваются идеями. Когда есть единомышленники, с которыми можно разделить взгляды.
Хочется еще немного поговорить о твоем более раннем проекте-исследовании Интернет-пространства. Из опыта последних лет мы знаем, что, практика думскроллинга, как правило, оказывает на читателя негативный эффект. Как работа с этой темой отражается на тебе?
Исследование думскроллинга было, на самом деле, моим осознанным шагом. Это, скорее, художественный метод, с которым я сейчас работаю. В какой-то степени она похожа на практику селфхарма, в процессе которой ты дергаешь за ниточки, оголенные нервы, манипулируя и вводя себя в нужные состояния, которые тебе интересны и с которыми ты хочешь в дальнейшем работать. Я сам сравниваю это с погружением в кроличью нору, в сеть, которая образует лабиринты, такие тернистые, закольцованные, с множеством веток и корней, через которые необходимо пробраться. Это моя практика, с помощью нее я проживаю новые опыты, что очень важно для художника.
Это позволяет тебе найти ответ на какие-то вопросы?
Нет, это точно не про ответы на вопросы. Художники не дают никаких ответов, а искусство, с моей точки зрения, абсолютно не для этого нужно. Мне кажется, задача искусства в том, чтобы выворачивать, показывать другой мир и иное восприятие. Художники, в первую очередь, говорят только про себя, вспоминают свой опыт. Это эгоистичные существа, зацикленные на себе, на своих чувствах и переживаниях. Наблюдение за экспериментами художника, пусть и не дает ответов, но для зрителя может быть как минимум любопытным.
Расскажи о векторах, в которых сейчас двигаешься, над чем работаешь. Может быть, есть что-то, чем готов поделиться?
На данный момент я хочу продолжать проект «Ширма безопасности» и прощупывать дальше свой визуальный язык. Мне кажется, новая серия хорошо совместила в себе мои предыдущие практики. Я понимаю, что расту вместе со своим искусством. Мне это нравится, потому что меняюсь я – меняется мой художественный язык. И в силу того, что моя карьера только начинается, я могу себе это позволить.
Фотоматериалы предоставлены художником.


