EiL Blog
Интервью с Анастасией Митюшиной
October 24, 2022
October 24, 2022
Внезапно для себя самих мы открыли интересный подход к знакомству с институцией через людей, которые ее создают. Именно в таком ключе нам интересно было пообщаться с Настей: узнать о том, какие навыки ей удавалось развивать, работая над проектами в современном искусстве с первого курса университета, в каких значимых проектах удалось поучаствовать на арт-сцене страны до присоединения к команде «Гаража» и как сейчас выстраивается ее кураторская работа в рамках музея. Традиционно, не обошли стороной и рекомендации молодым художникам: они как всегда вдохновляют, но спойлеров здесь не будет – полный текст интервью читайте по ссылке.
К нашей радости, Настя поделилась деталями программ, которые продолжают свою работу в «Гараже». Вот, например, 31 октября стартует проект группы «Малышки 18:22» для программы «Garage Archive Commissions». Смысловым центром инсталляции группы является видео «12 магических историй в подземелье». Эта работа —ремейк хранящейся в архиве Музея «Гараж» видеозаписи «Синие носы представляют 14 перформансов в бункере» (1999), определившей момент формирования одноименной арт-группы. Если вы ждали удачного момента навестить любимый музей, то, кажется, он настал.
К нашей радости, Настя поделилась деталями программ, которые продолжают свою работу в «Гараже». Вот, например, 31 октября стартует проект группы «Малышки 18:22» для программы «Garage Archive Commissions». Смысловым центром инсталляции группы является видео «12 магических историй в подземелье». Эта работа —ремейк хранящейся в архиве Музея «Гараж» видеозаписи «Синие носы представляют 14 перформансов в бункере» (1999), определившей момент формирования одноименной арт-группы. Если вы ждали удачного момента навестить любимый музей, то, кажется, он настал.
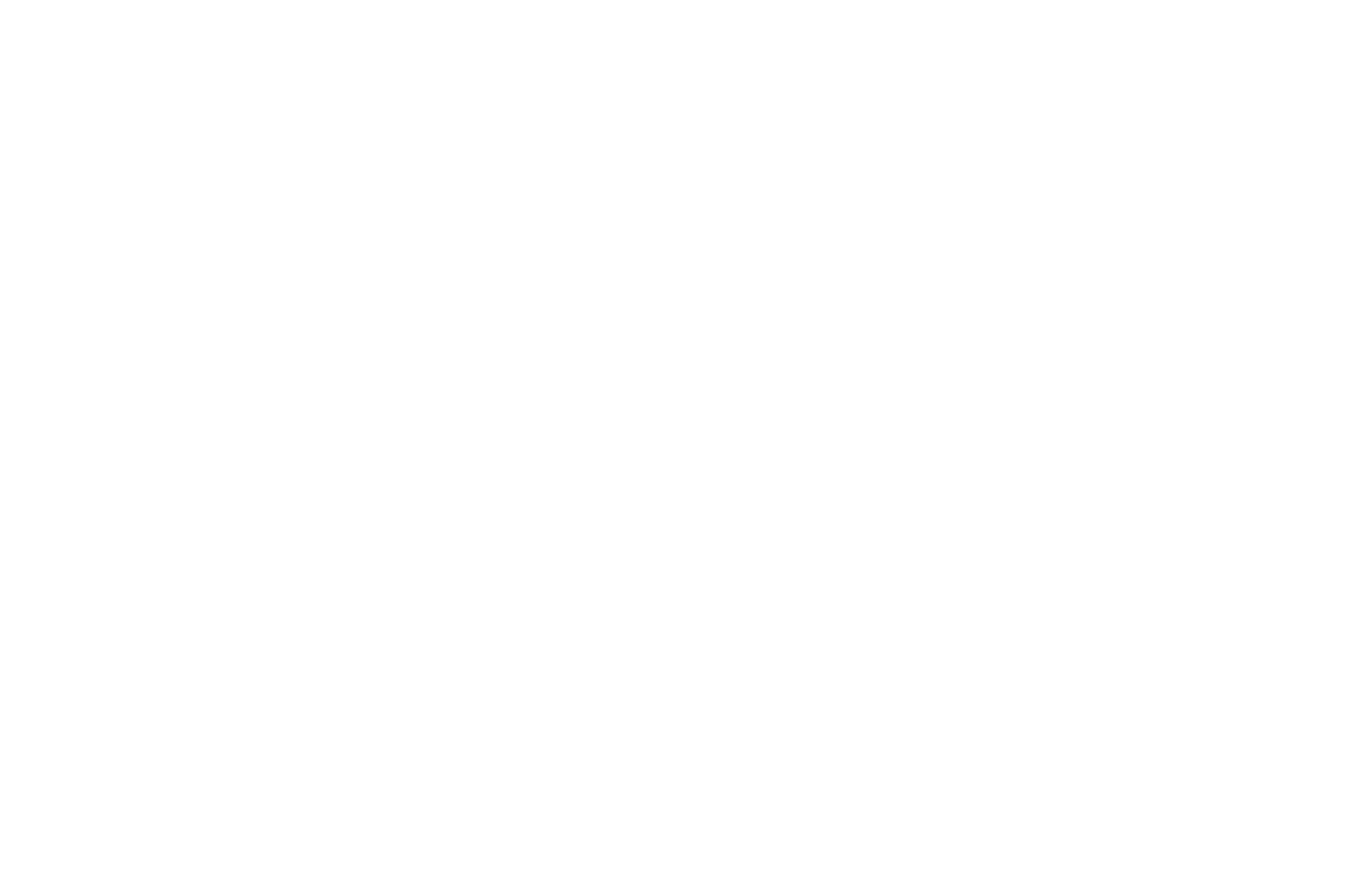
Анастасия Митюшина
Настя, расскажи, с чего начался твой путь в профессии куратора?
Я убеждена, что кураторская профессия, в первую очередь, основывается на практике, это всегда «learning by doing». Я начала искать возможности для приобретения реального кураторского опыта еще в 2000-м году, на первом курсе – я получала искусствоведческое образование: мне очень хотелось включиться в современное искусство здесь и сейчас, начать узнавать его на практике.
Тогда меня друзья родителей познакомили меня с Георгием Никичем, он с конца 1990-х проводил Форум художественных инициатив в Малом Манеже. Особенность этого проекта в социально-антропологическом взгляде на искусство: каждый раз Георгий исследовал какую-то гипотезу об арт-системе. Мне досталась тема «искусство пользы» (каталог есть в библиотеке Музея «Гараж»). Задача состояла в том, чтобы найти художнику соавтора в лице какой-то корпорации. «Зеленой» мне в «подопечные» достался молодой индустриальный дизайнер из Тольятти Алексей Бородин. Леша работал на АвтоВАЗе, нам нужно было найти какую-то производственную или дилерскую компанию и убедить ее поучаствовать в творческом процессе или присвоить уже готовое художественное высказывание.
По задумке, это должно было продемонстрировать возможности сотрудничества и взаимопонимания через процесс промышленности и искусства. Забавно, что спустя лет семь это станет привычной и популярной практикой, инициируемой чаще даже отделами маркетинга крупных брендов. В нулевые такое подключение непрофильных компаний к творчеству было в диковинку, и мне было чрезвычайно сложно. Плюс это был мой первый опыт убеждения непрофильных слушателей: до этого я продвигала современное искусство только среди студентов искусствоведов, а перед каждым звонком в отдел маркетинга какого-нибудь автодилера я по 30 минут собиралась с духом, а потом еще час приходила в себя после хмурого отказа секретаря соединить меня с боссом. Я работала и как куратор, обсуждая с художником его замысел и видение процесса, и как менеджер, ищущий средства на реализацию. Этот опыт дал мне очень четкое понимание того, как устроен производственный процесс и где я больше всего пугаюсь. Забавно, что тогда все производственные лакуны для инсталляции закрыл мой папа, напечатав где-то у друзей многометровый баннер и набрав ведра песка прямо у здания Комитета по делам национальностей.
Потом у меня был дико познавательный опыт работы с Мариной Голубовской и Гришей Козловым, автором книги «Покушение на искусство. Арт-детектив». Книги тогда еще не было, мы как раз работали над документальным сериалом, на основе которого потом и была написана книга. В этом проекте я была координатором по изображениям. В мои задачи входила коммуникация с правообладателями необходимых для фильма изображений и иногда координация интервью, например, с наследниками Ротко. Тут очень помогли навыки студента истфака (ведь история искусства МГУ – это лишь отделение Исторического, потому все методологические установки у меня оттуда), привыкшего уважать источники и докапываться до сути и перепроверять информацию. Тут же я осознала, что с легкостью могу координировать несколько разных по темпу коммуникаций. Ну и, конечно, опыт погружения в закулисье искусства многое мне поведал про функционирование арт-системы, а в университете этому же совсем тогда не учили.
Я убеждена, что кураторская профессия, в первую очередь, основывается на практике, это всегда «learning by doing». Я начала искать возможности для приобретения реального кураторского опыта еще в 2000-м году, на первом курсе – я получала искусствоведческое образование: мне очень хотелось включиться в современное искусство здесь и сейчас, начать узнавать его на практике.
Тогда меня друзья родителей познакомили меня с Георгием Никичем, он с конца 1990-х проводил Форум художественных инициатив в Малом Манеже. Особенность этого проекта в социально-антропологическом взгляде на искусство: каждый раз Георгий исследовал какую-то гипотезу об арт-системе. Мне досталась тема «искусство пользы» (каталог есть в библиотеке Музея «Гараж»). Задача состояла в том, чтобы найти художнику соавтора в лице какой-то корпорации. «Зеленой» мне в «подопечные» достался молодой индустриальный дизайнер из Тольятти Алексей Бородин. Леша работал на АвтоВАЗе, нам нужно было найти какую-то производственную или дилерскую компанию и убедить ее поучаствовать в творческом процессе или присвоить уже готовое художественное высказывание.
По задумке, это должно было продемонстрировать возможности сотрудничества и взаимопонимания через процесс промышленности и искусства. Забавно, что спустя лет семь это станет привычной и популярной практикой, инициируемой чаще даже отделами маркетинга крупных брендов. В нулевые такое подключение непрофильных компаний к творчеству было в диковинку, и мне было чрезвычайно сложно. Плюс это был мой первый опыт убеждения непрофильных слушателей: до этого я продвигала современное искусство только среди студентов искусствоведов, а перед каждым звонком в отдел маркетинга какого-нибудь автодилера я по 30 минут собиралась с духом, а потом еще час приходила в себя после хмурого отказа секретаря соединить меня с боссом. Я работала и как куратор, обсуждая с художником его замысел и видение процесса, и как менеджер, ищущий средства на реализацию. Этот опыт дал мне очень четкое понимание того, как устроен производственный процесс и где я больше всего пугаюсь. Забавно, что тогда все производственные лакуны для инсталляции закрыл мой папа, напечатав где-то у друзей многометровый баннер и набрав ведра песка прямо у здания Комитета по делам национальностей.
Потом у меня был дико познавательный опыт работы с Мариной Голубовской и Гришей Козловым, автором книги «Покушение на искусство. Арт-детектив». Книги тогда еще не было, мы как раз работали над документальным сериалом, на основе которого потом и была написана книга. В этом проекте я была координатором по изображениям. В мои задачи входила коммуникация с правообладателями необходимых для фильма изображений и иногда координация интервью, например, с наследниками Ротко. Тут очень помогли навыки студента истфака (ведь история искусства МГУ – это лишь отделение Исторического, потому все методологические установки у меня оттуда), привыкшего уважать источники и докапываться до сути и перепроверять информацию. Тут же я осознала, что с легкостью могу координировать несколько разных по темпу коммуникаций. Ну и, конечно, опыт погружения в закулисье искусства многое мне поведал про функционирование арт-системы, а в университете этому же совсем тогда не учили.
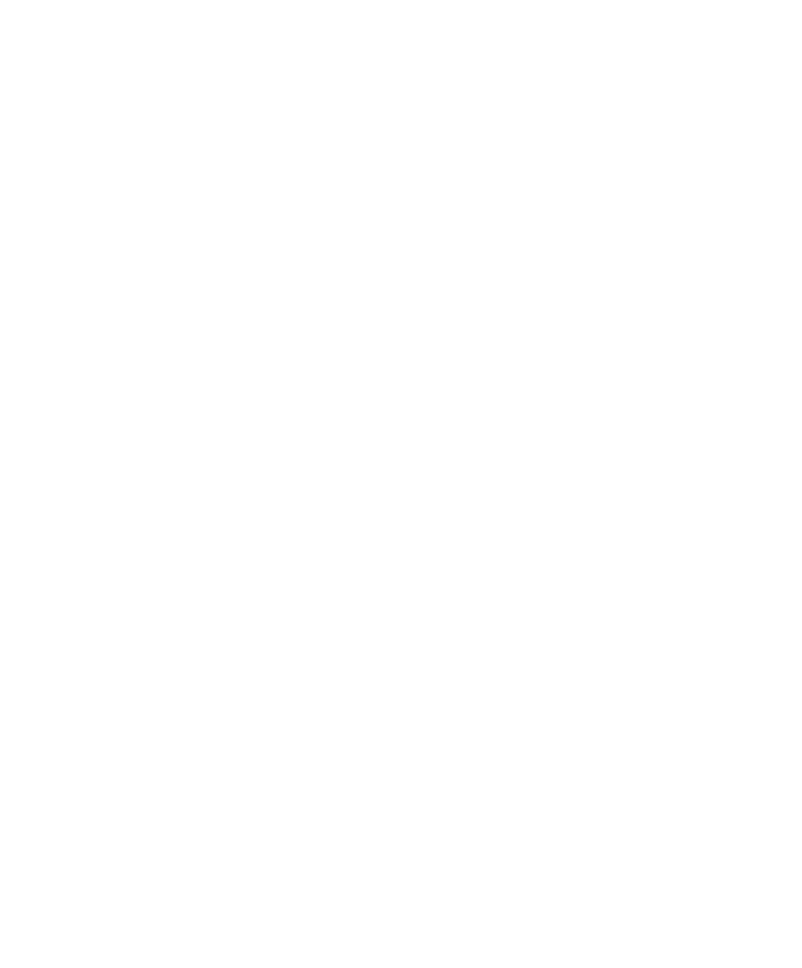
Книга Г.Козлова «Покушение на искусство. Арт-детектив»
Был ли у тебя опыт работы с текстами?
Да, с редактором Мариной Голубовской (а позже Марией Кравцовой, сейчас она главред АртГида) мы еще впоследствии работали в журнале «АртХроника», где я вела новостную колонку. И я всем очень советую такой опыт. Моя работа заключалась в том, чтобы написать 3-4 маленьких текста, на 100-150 слов на основе анализа зарубежных СМИ или инфо-агентств. Я тогда отлично прокачала английский и научилась досконально разбираться в информации. Часто оказывалось, что в англоязычных первоисточниках, которые я использовала для своей колонки, какие-то факты были упущены или противоречили друг другу. В сжатом пересказе причинно-следственные связи должны быть кристально ясными, потому часто для крошечной заметки я сутками копалась в интернете или книжках для уточнения и дополнения информации.
Потом я рецензии писала в АртХронику и «Художественных Журнал» (ХЖ), была полгода редактором отдела рецензий ХЖ и в различных других изданиях публиковалась.
Да, с редактором Мариной Голубовской (а позже Марией Кравцовой, сейчас она главред АртГида) мы еще впоследствии работали в журнале «АртХроника», где я вела новостную колонку. И я всем очень советую такой опыт. Моя работа заключалась в том, чтобы написать 3-4 маленьких текста, на 100-150 слов на основе анализа зарубежных СМИ или инфо-агентств. Я тогда отлично прокачала английский и научилась досконально разбираться в информации. Часто оказывалось, что в англоязычных первоисточниках, которые я использовала для своей колонки, какие-то факты были упущены или противоречили друг другу. В сжатом пересказе причинно-следственные связи должны быть кристально ясными, потому часто для крошечной заметки я сутками копалась в интернете или книжках для уточнения и дополнения информации.
Потом я рецензии писала в АртХронику и «Художественных Журнал» (ХЖ), была полгода редактором отдела рецензий ХЖ и в различных других изданиях публиковалась.
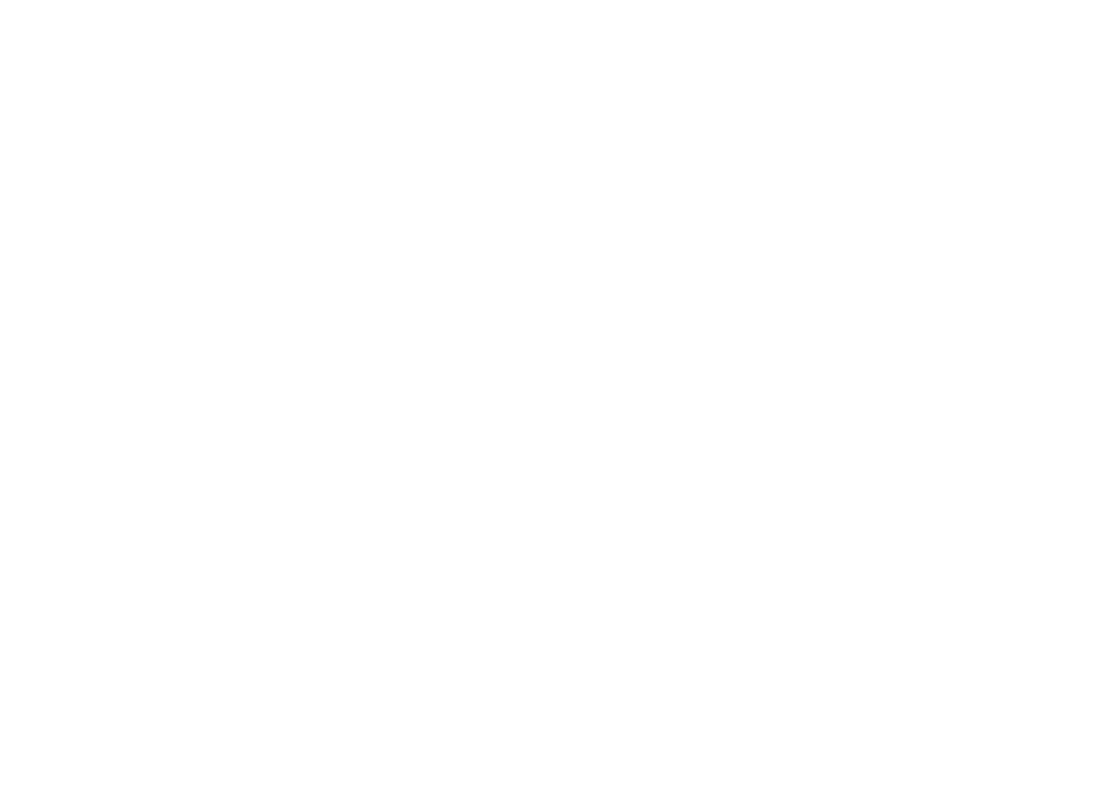
Приглашение на открытие выставки «do it Москва» (2014) - первый кураторский проект Насти в Музее "Гараж"
Что еще помогло накопить опыта к моменту, когда ты присоединилась к команде «Гаража»?
Когда меня пригласили в «Гараж» возглавить образовательное (сейчас его принято называть просветительским) направление летом 2010 года, все как-то очень совпало – у меня уже тогда был очень разнообразный опыт, и в маленьких командах, и в крупных компаниях, и все это удачно друг друга дополняло и отвечало тем вызовам, которые стояли передо мной в новой роли. И я же долго уже к тому моменту пиаром в искусстве занималась, поэтому сторона публики и насколько ей искусство доступно, меня волновала не меньше кураторской изобретательности.
Я была тогда очень горячим «пропагандистом» современного искусства. Сейчас я в этом плане гораздо спокойнее, и мой жизненный опыт склоняет к тому, чтобы топить за психологическое здоровье и телесную осознанность более, чем за интеллектуальную осведомленность или визуальную прокаченность, хотя одно другого не отменяет.
Например, я год работала в Третьяковской галерее, в качестве стажера- ассистента кураторской группы на ретроспективе Марка Шагала. Еще в середине 2000-х был опыт работы в компании ProcativePR, которая мыслила себя на стыке арт-менеджмента и пиара в искусстве. Тогда был период, когда музеи только начали открываться для выставок, инициированных частными лицами. У музеев не было финансирования, и для них это было выгодное сотрудничество. Например, выставка «Бубновый валет», инициированная Фондом «Екатерина». Эта компания как раз управляла подобными инициативами и помогала связывать частные институции и музеи, приводить спонсоров и выстраивать для них грамотный пиар.
Интересным и значимым для меня этапом была работа фрилансером в роли кризис-менеджера, когда я и куратор, и менеджер, отвечающий за логистику процессов. Например, в проекте «Москваполис» в Пермском музее современного искусства. В мою задачу входил подбор участников из галерей и институций Москвы, и подготовка выборки того, что каждый из них представляет. Вообще, мне почти со всеми легендами 1990-х-начала 2000-х довелось поработать хотя бы раз. Это невероятно приземляющий опыт: легендарный ореол развеивался и я сталкивалась с обычными людьми, из амбиций и плоти. И это тоже помогло колоссально повзрослеть.
Мне приятно вспоминать, что тот самый хит, объект «Счастье не за горами» Бориса Матросова именно я придумала привезти в Пермь и подобрать для него локацию на берегу. Помню, как мы при еще замерзшей Каме прикидывали, как крепить буквы. Безумно радует, когда результат твоей работы остается даже после окончания проекта и даже становится символом города. Его только в октябре 2021 года демонтировали из-за реконструкции набережной.
Когда меня пригласили в «Гараж» возглавить образовательное (сейчас его принято называть просветительским) направление летом 2010 года, все как-то очень совпало – у меня уже тогда был очень разнообразный опыт, и в маленьких командах, и в крупных компаниях, и все это удачно друг друга дополняло и отвечало тем вызовам, которые стояли передо мной в новой роли. И я же долго уже к тому моменту пиаром в искусстве занималась, поэтому сторона публики и насколько ей искусство доступно, меня волновала не меньше кураторской изобретательности.
Я была тогда очень горячим «пропагандистом» современного искусства. Сейчас я в этом плане гораздо спокойнее, и мой жизненный опыт склоняет к тому, чтобы топить за психологическое здоровье и телесную осознанность более, чем за интеллектуальную осведомленность или визуальную прокаченность, хотя одно другого не отменяет.
Например, я год работала в Третьяковской галерее, в качестве стажера- ассистента кураторской группы на ретроспективе Марка Шагала. Еще в середине 2000-х был опыт работы в компании ProcativePR, которая мыслила себя на стыке арт-менеджмента и пиара в искусстве. Тогда был период, когда музеи только начали открываться для выставок, инициированных частными лицами. У музеев не было финансирования, и для них это было выгодное сотрудничество. Например, выставка «Бубновый валет», инициированная Фондом «Екатерина». Эта компания как раз управляла подобными инициативами и помогала связывать частные институции и музеи, приводить спонсоров и выстраивать для них грамотный пиар.
Интересным и значимым для меня этапом была работа фрилансером в роли кризис-менеджера, когда я и куратор, и менеджер, отвечающий за логистику процессов. Например, в проекте «Москваполис» в Пермском музее современного искусства. В мою задачу входил подбор участников из галерей и институций Москвы, и подготовка выборки того, что каждый из них представляет. Вообще, мне почти со всеми легендами 1990-х-начала 2000-х довелось поработать хотя бы раз. Это невероятно приземляющий опыт: легендарный ореол развеивался и я сталкивалась с обычными людьми, из амбиций и плоти. И это тоже помогло колоссально повзрослеть.
Мне приятно вспоминать, что тот самый хит, объект «Счастье не за горами» Бориса Матросова именно я придумала привезти в Пермь и подобрать для него локацию на берегу. Помню, как мы при еще замерзшей Каме прикидывали, как крепить буквы. Безумно радует, когда результат твоей работы остается даже после окончания проекта и даже становится символом города. Его только в октябре 2021 года демонтировали из-за реконструкции набережной.
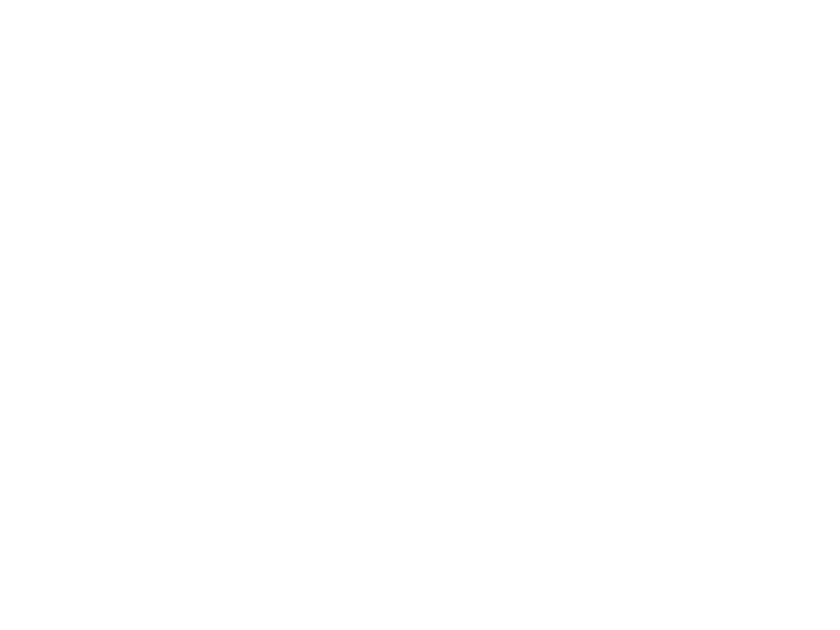
Объект «Счастье не за горами» Бориса Матросова. Фото: permm.ru
В «Гараже» ты отвечаешь за публичную программу. Расскажи, что в нее входит?
Публичная программа включает как события образовательного профиля для широкой аудитории, так и более художественные инициативы: перформансы, концерты, театральные постановки, а также публичные программы к выставкам. Она очень сильно трансформировалась за 12 лет своего существования (появилась в мае 2009 года): музей рос и менялся, какие-то инициативы, как, например, Garage Screen или издательская программа, выросли из небольших инициатив внутри «публички» (это наше ласковое сленг-наименование) в огромные самостоятельные направления.
Таким же масштабным до февраля 2022 года планировалось сделать направление перформативное, известное как Garage Live, посвященное исследованию и поддержке перформативных практик. Это был основной предмет моих интересов последние два года.
Сейчас музей пересобирается: мы ищем способ осмыслить происходящее сейчас. Потому поставили выставочную и перформативную деятельность на паузу, часть выставочных площадей занимает библиотека, часть – столы для коворкинга. По-прежнему работают инклюзивные программы, много всего бесплатного происходит для детско-семейной аудитории (есть отдельные каналы ТГ GarageKids и GarageTeens). Мастерские «Гаража» по-прежнему работают. С 31 октября в основном здании Музея можно будет посмотреть проект группы «Малышки 18:22» в рамках программы Garage Archive Commission.
Публичная программа включает как события образовательного профиля для широкой аудитории, так и более художественные инициативы: перформансы, концерты, театральные постановки, а также публичные программы к выставкам. Она очень сильно трансформировалась за 12 лет своего существования (появилась в мае 2009 года): музей рос и менялся, какие-то инициативы, как, например, Garage Screen или издательская программа, выросли из небольших инициатив внутри «публички» (это наше ласковое сленг-наименование) в огромные самостоятельные направления.
Таким же масштабным до февраля 2022 года планировалось сделать направление перформативное, известное как Garage Live, посвященное исследованию и поддержке перформативных практик. Это был основной предмет моих интересов последние два года.
Сейчас музей пересобирается: мы ищем способ осмыслить происходящее сейчас. Потому поставили выставочную и перформативную деятельность на паузу, часть выставочных площадей занимает библиотека, часть – столы для коворкинга. По-прежнему работают инклюзивные программы, много всего бесплатного происходит для детско-семейной аудитории (есть отдельные каналы ТГ GarageKids и GarageTeens). Мастерские «Гаража» по-прежнему работают. С 31 октября в основном здании Музея можно будет посмотреть проект группы «Малышки 18:22» в рамках программы Garage Archive Commission.
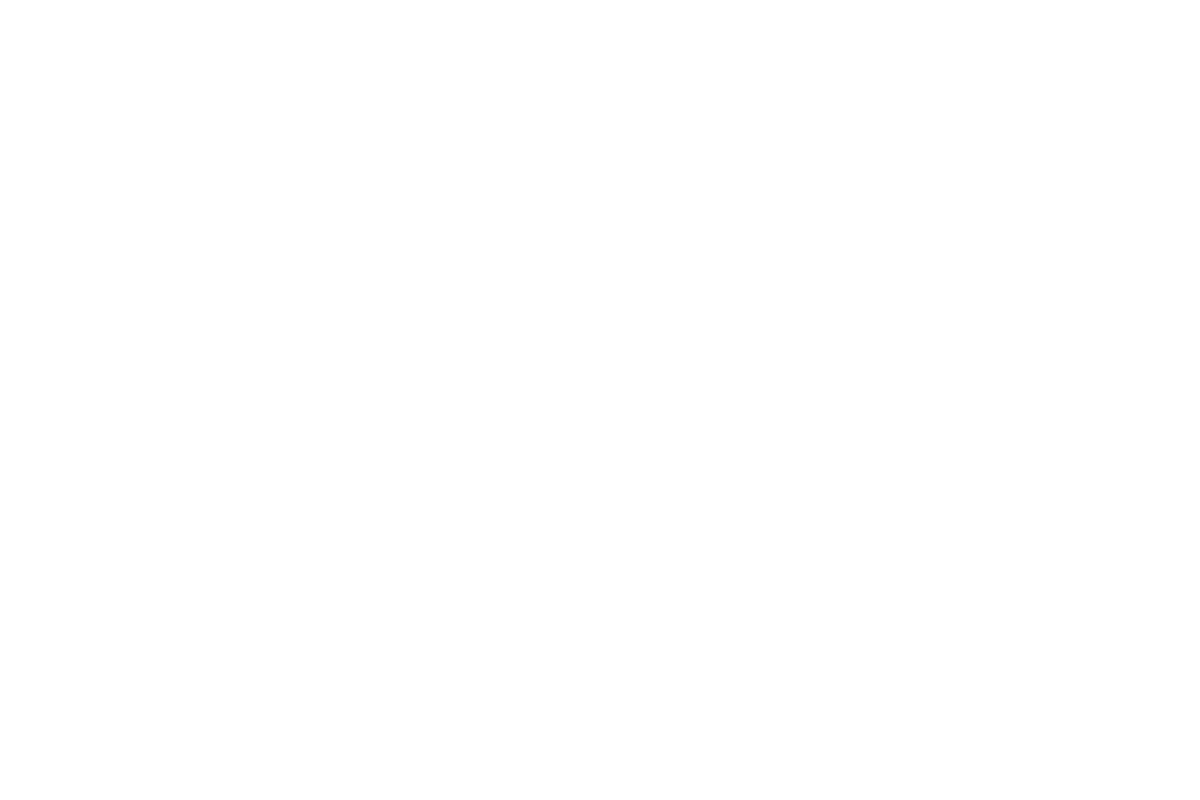
Работы Алисы Горшениной на 2-й Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей". Кураторы - Анастасия Митюшина и Валентин Дьяконов.
Расскажи про работу с художниками. Как по твоему опыту происходит кураторский отбор, что важно знать и уметь художнику, чтобы попадать в значимые кураторские проекты?
Исходя из моего опыта, делать что-то ради того, чтобы куда-то попасть – тупиковый путь. Ведь искусство делается для другого – для того, чтобы найти себя, отрефлексировать свой опыт, найдя собственный язык. А если оно запрограммированно на тренды или чьи-то ожидания, это уже совсем не то. Конечно, бывают такие «продюсерские кейсы», но и специалисты изнутри профессии, и вдумчивые зрители всегда чувствуют эту конъюнктурность.
Художник любое решение должен принимать из того, как он видит (осмысляет и чувствует) этот мир. Выигрывают те, кто себе в этом подходе не изменяет. Хороший пример - Алиса Горшенина. У нее летом была замечательная выставка в Ельцин-центре, в пространство которого она изящно вписалась. Восхищает, как Алиса превратила неудобный зал-дугу в «лес» с постепенно открывающимися тайнами: было и достаточно воздуха, чтобы каждый объект и инсталляцию прочувствовать, и плотность ритма выдержана, когда, почти как у братьев Гримм, сказка затягивает. Алиса последовательно исследует свою идентичность, что такое быть женщиной, художником, свою принадлежность уральскому региону.
Исходя из моего опыта, делать что-то ради того, чтобы куда-то попасть – тупиковый путь. Ведь искусство делается для другого – для того, чтобы найти себя, отрефлексировать свой опыт, найдя собственный язык. А если оно запрограммированно на тренды или чьи-то ожидания, это уже совсем не то. Конечно, бывают такие «продюсерские кейсы», но и специалисты изнутри профессии, и вдумчивые зрители всегда чувствуют эту конъюнктурность.
Художник любое решение должен принимать из того, как он видит (осмысляет и чувствует) этот мир. Выигрывают те, кто себе в этом подходе не изменяет. Хороший пример - Алиса Горшенина. У нее летом была замечательная выставка в Ельцин-центре, в пространство которого она изящно вписалась. Восхищает, как Алиса превратила неудобный зал-дугу в «лес» с постепенно открывающимися тайнами: было и достаточно воздуха, чтобы каждый объект и инсталляцию прочувствовать, и плотность ритма выдержана, когда, почти как у братьев Гримм, сказка затягивает. Алиса последовательно исследует свою идентичность, что такое быть женщиной, художником, свою принадлежность уральскому региону.
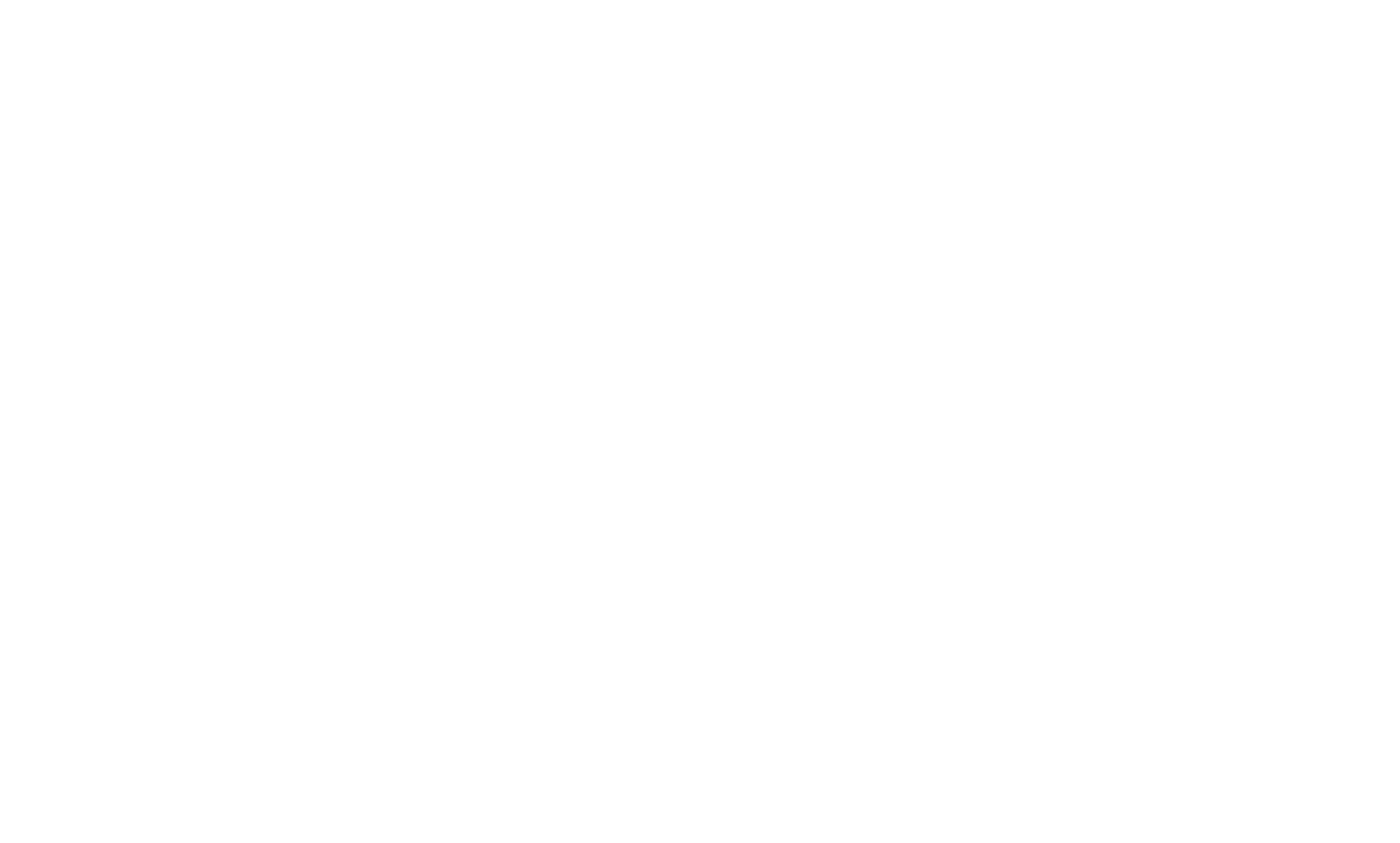
Куда дует ветер, 2022: Тотальная инсталляция Аси Заславской. Фото: Тася Спектор
Меня очень привлекают те художники, у которых есть свой внутренний контекст и которые находят емкую форму, чтобы нас, зрителей, к нему подключить. Таким уже зрелым автором для меня, например, является Саша Повзнер. Среди ищущих свой почерк мне симпатична Ася Заславская. Я не смогла поехать к ее тотальной инсталляции «Куда дует ветер», но чрезвычайно жалела об этом, соотнеся описание и фото-документацию. Поэтому главный совет – копаться в себе, осваивать различные медиа и давать времени время. А то, чему стоит прагматично учиться, так это описанию своих работ и составлению портфолио.
*Все фотоматериалы предоставлены Анастасией Митюшиной.
*Все фотоматериалы предоставлены Анастасией Митюшиной.


