EiL Blog
Беседа с галеристом: Ася Филиппова
February 21, 2025
February 21, 2025
Сегодня нашей собеседницей стала Ася Филиппова — экс-председатель Союза креативных кластеров, основатель и бессменный директор Центра творческих индустрий «Фабрика» — одного из первых и самых успешных арт-кластеров Москвы.
С Асей мы обсудили развитие Фабрики, внутренние процессы, резидентов, критерии выбора художников, ближайшие планы и, конечно, по традиции попросили советов для молодых авторов.
С Асей мы обсудили развитие Фабрики, внутренние процессы, резидентов, критерии выбора художников, ближайшие планы и, конечно, по традиции попросили советов для молодых авторов.
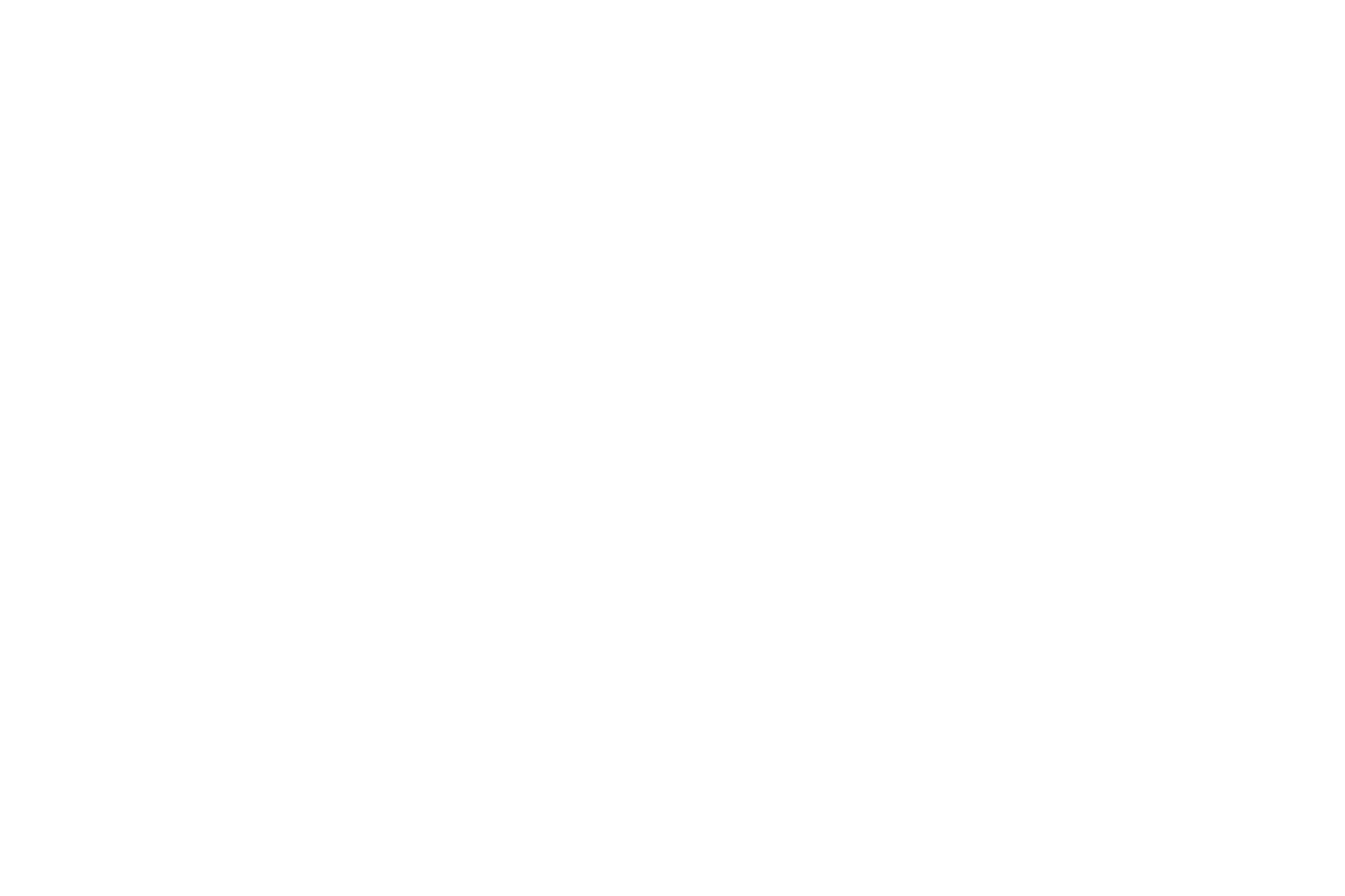
Ася Филиппова
Расскажите, с чего все начиналось?
Все началось с того, что я закончила экономический факультет МГУ и попала в инвестиционный фонд, который занимался приобретением акций промышленных предприятий. Одним из предприятий стала фабрика технических бумаг “Октябрь”, которую спустя несколько лет мне предложили возглавить. Заниматься производством в историческим центре Москвы уже в то время (2004 год) было нецелесообразно ни по экологическим, ни по логистическим соображениям, поэтому довольно быстро встал вопрос о том, во что эту площадку трансформировать, как ее использовать. И в этот момент уже сыграл свою роль мой интерес к современной культуре, визуальному искусству, и знакомства в этой сфере.
Проконсультировавшись со своими друзьями, я решила попробовать открыть на фабрике выставочный зал. Так был запущен процесс перехода от индустриального производства к креативным индустриям, от промышленного предприятия к креативному кластеру и культурному центру - ЦТИ Фабрика.
Наша выставочная история началась в 2005 году открытием специального проекта Первой Московской биеннале современного искусства – «No comment?». За ней последовали другие проекты - “Искусство на войне” совместно с Московским Домом Фотографии, “Саркофаг” Валерия Кошлякова — это вызвало большой интерес среди творческих людей из разных сфер культуры, и поэтому довольно быстро к выставочному пространству стали присоединяться инициативы в области неконвенционального театра, современного танца, документального кино. Так был открыт наш Актовый зал, программа которого строилась из современного танца, документального кино, анимации и инди-музыки. Очень быстро благодаря прекрасному менеджменту он стал культовым местом для молодежи и всех любителей актуальной культуры.
Постепенно Фабрика стала развиваться как полноценная институция с фокусом на поддержку процесса производства смыслов через культуру. Появились программы поддержки современного искусства, одна из первых в России резиденций для художников, программа «Фабричные мастерские» для авторов старше 35 лет, проект для локальных сообществ «Войти и разрешить». С 2010 года мы поддерживаем студентов и выпускников художественных школ, помогая им делать выставки. В 2024 году эта программа получила название «Сцепление».
И вот так, довольно быстро, пролетело 20 счастливых лет — за эти годы фабрика завоевала себе репутацию.пространства эксперимента, превратилась в устойчивую и авторитетную институцию в поле современного искусства.
Все началось с того, что я закончила экономический факультет МГУ и попала в инвестиционный фонд, который занимался приобретением акций промышленных предприятий. Одним из предприятий стала фабрика технических бумаг “Октябрь”, которую спустя несколько лет мне предложили возглавить. Заниматься производством в историческим центре Москвы уже в то время (2004 год) было нецелесообразно ни по экологическим, ни по логистическим соображениям, поэтому довольно быстро встал вопрос о том, во что эту площадку трансформировать, как ее использовать. И в этот момент уже сыграл свою роль мой интерес к современной культуре, визуальному искусству, и знакомства в этой сфере.
Проконсультировавшись со своими друзьями, я решила попробовать открыть на фабрике выставочный зал. Так был запущен процесс перехода от индустриального производства к креативным индустриям, от промышленного предприятия к креативному кластеру и культурному центру - ЦТИ Фабрика.
Наша выставочная история началась в 2005 году открытием специального проекта Первой Московской биеннале современного искусства – «No comment?». За ней последовали другие проекты - “Искусство на войне” совместно с Московским Домом Фотографии, “Саркофаг” Валерия Кошлякова — это вызвало большой интерес среди творческих людей из разных сфер культуры, и поэтому довольно быстро к выставочному пространству стали присоединяться инициативы в области неконвенционального театра, современного танца, документального кино. Так был открыт наш Актовый зал, программа которого строилась из современного танца, документального кино, анимации и инди-музыки. Очень быстро благодаря прекрасному менеджменту он стал культовым местом для молодежи и всех любителей актуальной культуры.
Постепенно Фабрика стала развиваться как полноценная институция с фокусом на поддержку процесса производства смыслов через культуру. Появились программы поддержки современного искусства, одна из первых в России резиденций для художников, программа «Фабричные мастерские» для авторов старше 35 лет, проект для локальных сообществ «Войти и разрешить». С 2010 года мы поддерживаем студентов и выпускников художественных школ, помогая им делать выставки. В 2024 году эта программа получила название «Сцепление».
И вот так, довольно быстро, пролетело 20 счастливых лет — за эти годы фабрика завоевала себе репутацию.пространства эксперимента, превратилась в устойчивую и авторитетную институцию в поле современного искусства.
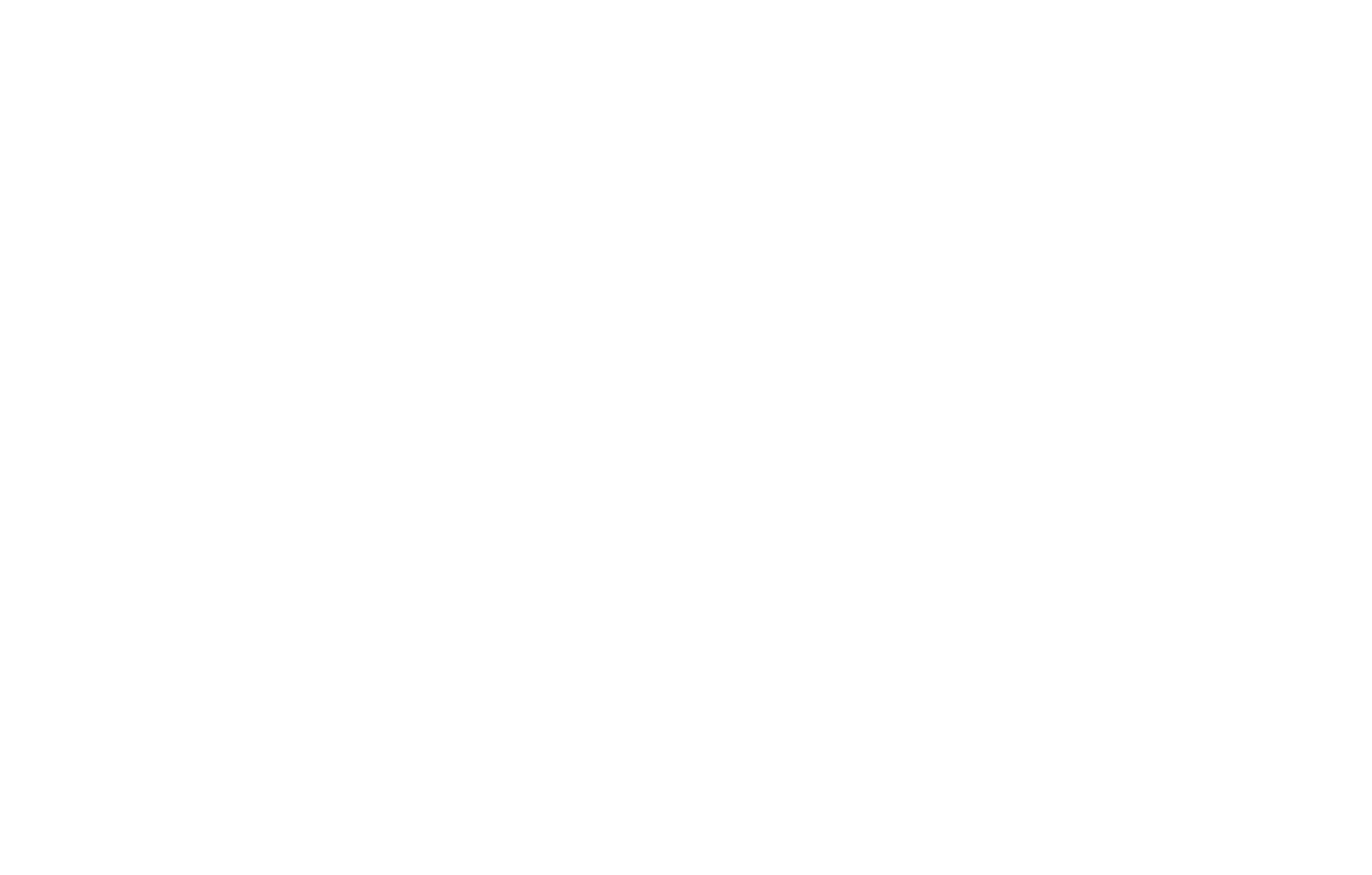
Что оказалось самым сложным в процессе?
Было две больших задачи. Во-первых, любить современное искусство — это не значит понимать все тонкости выставочного процесса. И в этом смысле любовь у меня была, а понимание приоритетов деятельности, того, как и зачем делаются выставки — пришло со временем. А во-вторых, Фабрика всегда была самоокупаемой организацией, нас никто не спонсировал. Фабрика не могла похвастаться прекрасными оборудованными пространствами, нужно было работать с теми помещениями, которые были. Промышленные цеха хороши по-своему, но это совершенно не значит, что они удобны для экспонирования произведений искусства.
Была ли у Вас в начале некая модель развития Фабрики или все происходило органично?
Фабрика развивалась постепенно. Команда набиралась опыта и выстраивала тактику, исходя из анализа сильных и слабых сторон. Например, я довольно быстро поняла, что в силу месторасположения и наших финансовых возможностей не было смысла соперничать с выставочными площадками, которые находились в центре Москвы. Соответственно, стоило сконцентрироваться на других аспектах и этапах художественного процесса. И мы сосредоточились на производстве, лабораторных экспериментах, создании мастерских для художников, на том, чтобы давать возможность авторам пробовать, рисковать. Реальность диктовала нам это направление.
Было две больших задачи. Во-первых, любить современное искусство — это не значит понимать все тонкости выставочного процесса. И в этом смысле любовь у меня была, а понимание приоритетов деятельности, того, как и зачем делаются выставки — пришло со временем. А во-вторых, Фабрика всегда была самоокупаемой организацией, нас никто не спонсировал. Фабрика не могла похвастаться прекрасными оборудованными пространствами, нужно было работать с теми помещениями, которые были. Промышленные цеха хороши по-своему, но это совершенно не значит, что они удобны для экспонирования произведений искусства.
Была ли у Вас в начале некая модель развития Фабрики или все происходило органично?
Фабрика развивалась постепенно. Команда набиралась опыта и выстраивала тактику, исходя из анализа сильных и слабых сторон. Например, я довольно быстро поняла, что в силу месторасположения и наших финансовых возможностей не было смысла соперничать с выставочными площадками, которые находились в центре Москвы. Соответственно, стоило сконцентрироваться на других аспектах и этапах художественного процесса. И мы сосредоточились на производстве, лабораторных экспериментах, создании мастерских для художников, на том, чтобы давать возможность авторам пробовать, рисковать. Реальность диктовала нам это направление.
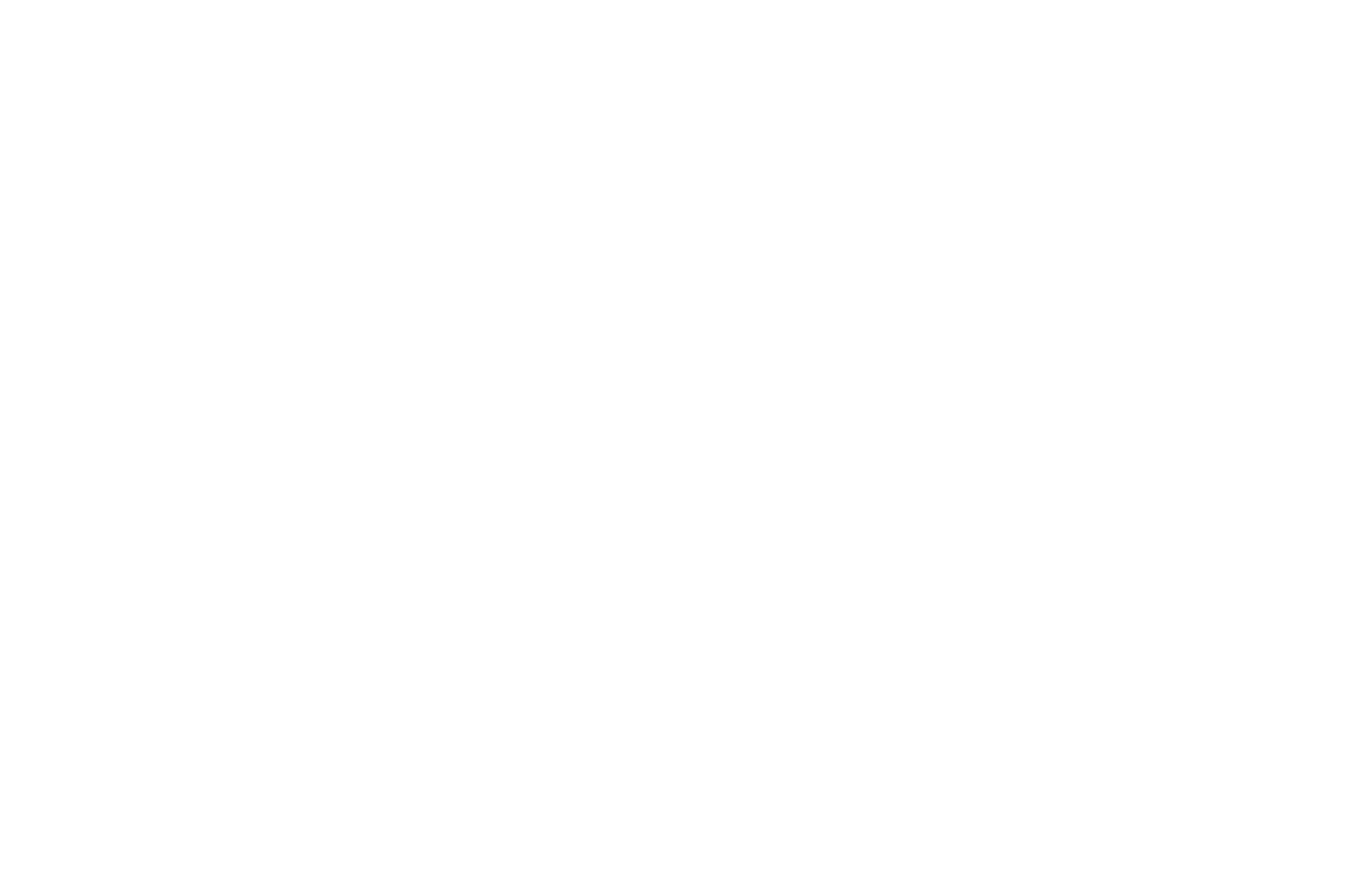
А как пришла идея создать мастерские для художников 35+?
Этой идеей я обязана Елене Куприной-Ляхович. Она давала мне советы, когда мы открывали первый выставочный зал. Именно она посоветовала ориентироваться на возрастной диапазон “mid-career”, то есть художников, вышедших из категории “молодых талантов”. Действительно, к этому возрасту люди из студентов, которые еще нащупывают свой язык, ещё пропитаны цитатами из лекций и книг, превращаются в самостоятельных авторов, осознанно формулирующих свои высказывания. На мой взгляд, взрослые зрелые художники уж точно не менее интересны, чем молодые, и определенно заслуживают поддержки.
У авторов, работающих в рамках фабричных мастерских, организуется итоговая выставка?
Да, в сессионной части программы фабричных мастерских есть несколько номинаций. Первая — “Мастерская на Фабрике”. В рамках этой номинации художник получает в пользование студию, работает в ней от полугода до года и в конце показывает заявленный проект в наших выставочных залах. Вторая — “Выставка на Фабрике”. Эта номинация — для тех, кто не нуждается в пространстве для работы, но хочет показать свой проект публике. Есть номинация “Грант ПиранезиLAB”, в рамках которой художники заявляют проекты, которые задуманы и могут быть выполнены только с использованием печатных технологий. Победители получают право сделать свои работы при содействии и под профессиональным надзором Алексея Веселовского.
В фабричных мастерских художники работают, производят свое искусство и показывают здесь же. Что, впрочем, совершенно не запрещает им показывать эти проекты впоследствии на других площадках.
Этой идеей я обязана Елене Куприной-Ляхович. Она давала мне советы, когда мы открывали первый выставочный зал. Именно она посоветовала ориентироваться на возрастной диапазон “mid-career”, то есть художников, вышедших из категории “молодых талантов”. Действительно, к этому возрасту люди из студентов, которые еще нащупывают свой язык, ещё пропитаны цитатами из лекций и книг, превращаются в самостоятельных авторов, осознанно формулирующих свои высказывания. На мой взгляд, взрослые зрелые художники уж точно не менее интересны, чем молодые, и определенно заслуживают поддержки.
У авторов, работающих в рамках фабричных мастерских, организуется итоговая выставка?
Да, в сессионной части программы фабричных мастерских есть несколько номинаций. Первая — “Мастерская на Фабрике”. В рамках этой номинации художник получает в пользование студию, работает в ней от полугода до года и в конце показывает заявленный проект в наших выставочных залах. Вторая — “Выставка на Фабрике”. Эта номинация — для тех, кто не нуждается в пространстве для работы, но хочет показать свой проект публике. Есть номинация “Грант ПиранезиLAB”, в рамках которой художники заявляют проекты, которые задуманы и могут быть выполнены только с использованием печатных технологий. Победители получают право сделать свои работы при содействии и под профессиональным надзором Алексея Веселовского.
В фабричных мастерских художники работают, производят свое искусство и показывают здесь же. Что, впрочем, совершенно не запрещает им показывать эти проекты впоследствии на других площадках.
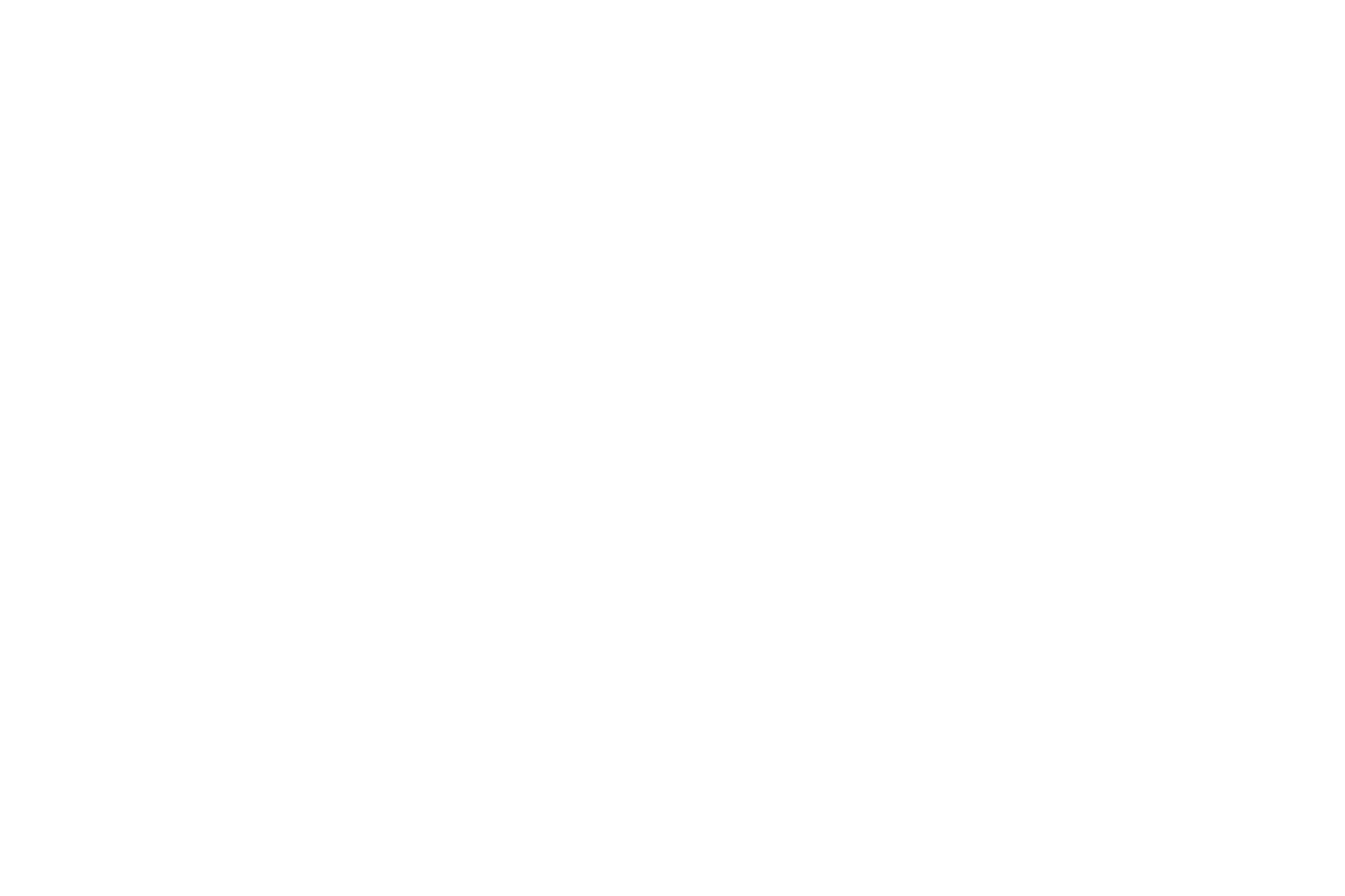
Алексей Веселовский, Ася Филиппова
На что Вы обращаете внимание, когда отбираете художников?
Художников конкурсной части отбирает экспертный совет: искусствоведы, критики, художники, кураторы. Они составляют лонг-лист, а жюри уже выбирает победителей. Критериев несколько. Нам безусловно интересны проекты, которые так или иначе отражают индустриальную эстетику, историю Фабрики, вопросы, связанные с исследованиями трансформации труда как целесообразной деятельности, необходимой каждому человеку. Мы приветствуем любые свежие идеи, которые затруднительно или невозможно воплотить в других пространствах. Нам очень нравятся тотальные инсталляции, произведения, которые создаются не для стандартных белых кубов, но взаимодействуют с нашими пост-индустриальными залами.
А кто еще делает выставки на Фабрике: частные галереи, самоорганизации художников?
У нас работают три таких самоорганизации. Школа «Уновис» под руководством Эльдара Ганеева, пространство «Бомба» под руководством Натальи Тимофеевой, которая располагается в нашем бомбоубежище и очень активно функционирует как artist run space, а также пространство, которое сейчас называется «Пыль». Здесь находятся галереи Textura, MSK Eastside, недавно открылось компактное выставочное пространство студентов Института Современного искусства Иосифа Бакштейна «NNFN ».
А вообще — любой художник может прислать нам свой проект на электронную почту. Наша площадка работает как публичная, прозрачная и открытая система — нет никаких сегментов и форматов, в которые автор должен попадать, чтобы подать заявку.
Художников конкурсной части отбирает экспертный совет: искусствоведы, критики, художники, кураторы. Они составляют лонг-лист, а жюри уже выбирает победителей. Критериев несколько. Нам безусловно интересны проекты, которые так или иначе отражают индустриальную эстетику, историю Фабрики, вопросы, связанные с исследованиями трансформации труда как целесообразной деятельности, необходимой каждому человеку. Мы приветствуем любые свежие идеи, которые затруднительно или невозможно воплотить в других пространствах. Нам очень нравятся тотальные инсталляции, произведения, которые создаются не для стандартных белых кубов, но взаимодействуют с нашими пост-индустриальными залами.
А кто еще делает выставки на Фабрике: частные галереи, самоорганизации художников?
У нас работают три таких самоорганизации. Школа «Уновис» под руководством Эльдара Ганеева, пространство «Бомба» под руководством Натальи Тимофеевой, которая располагается в нашем бомбоубежище и очень активно функционирует как artist run space, а также пространство, которое сейчас называется «Пыль». Здесь находятся галереи Textura, MSK Eastside, недавно открылось компактное выставочное пространство студентов Института Современного искусства Иосифа Бакштейна «NNFN ».
А вообще — любой художник может прислать нам свой проект на электронную почту. Наша площадка работает как публичная, прозрачная и открытая система — нет никаких сегментов и форматов, в которые автор должен попадать, чтобы подать заявку.
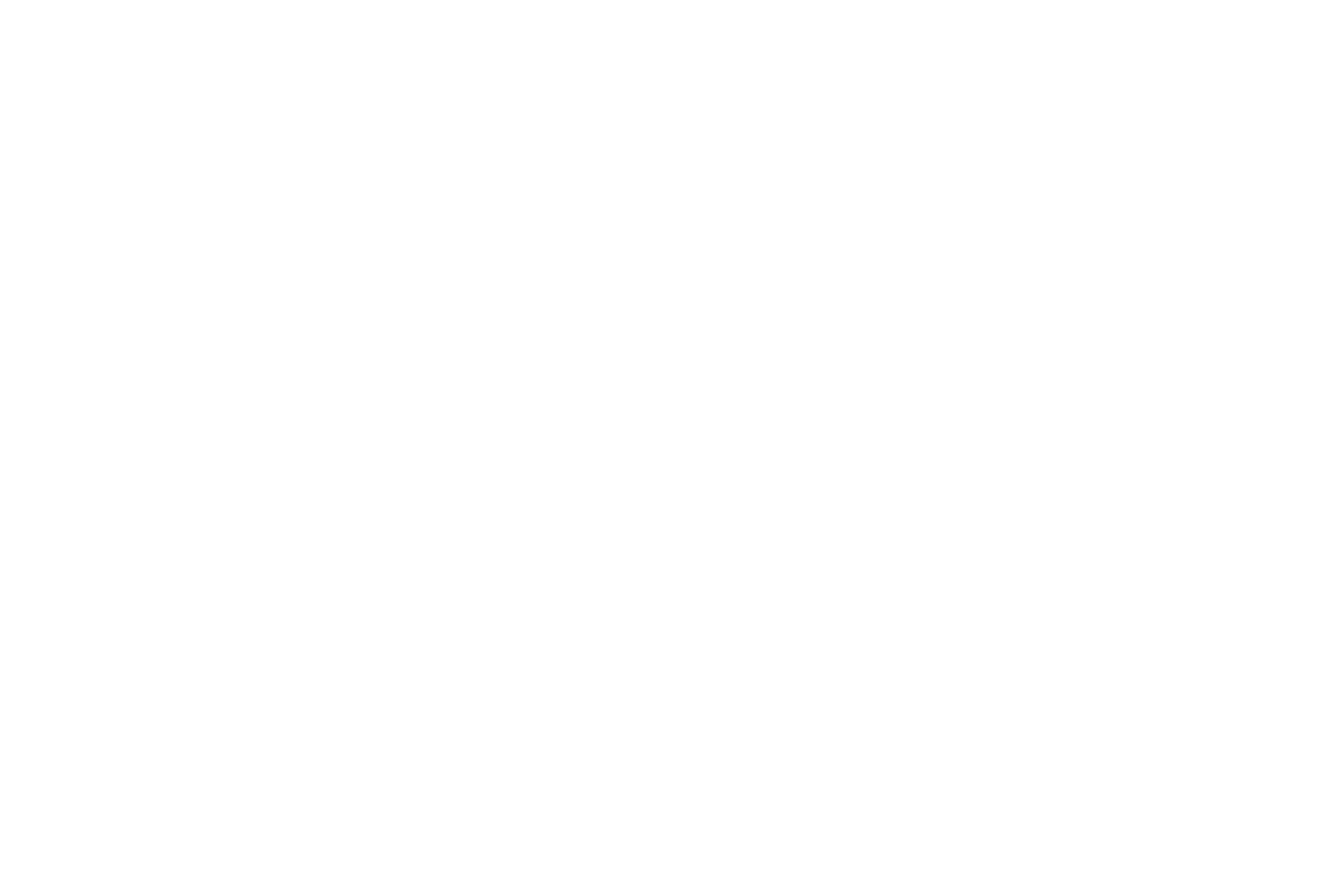
Было ли в мыслях устроить на Фабрике ярмарку?
Если вы имеете ввиду ярмарку современного искусства, я изначально всячески дистанцировалась от деятельности по монетизации искусства. Продавать его — непостижимый навык для меня, поэтому никогда и не хотелось погружаться в эту специфическую область рынка с непрозрачными критериями. Но благодаря нашим резидентам и издательству Ад Маргинем на Фабрике родилась инициатива фестиваля «Черный рынок», которая успешно развивается, включая разнообразные события- продажу книг, музыку, обсуждения и встречи с представителями разных сообществ. Они успешно прошли летом, а следующее мы планируем на декабрь 2025 года.
Если вы имеете ввиду ярмарку современного искусства, я изначально всячески дистанцировалась от деятельности по монетизации искусства. Продавать его — непостижимый навык для меня, поэтому никогда и не хотелось погружаться в эту специфическую область рынка с непрозрачными критериями. Но благодаря нашим резидентам и издательству Ад Маргинем на Фабрике родилась инициатива фестиваля «Черный рынок», которая успешно развивается, включая разнообразные события- продажу книг, музыку, обсуждения и встречи с представителями разных сообществ. Они успешно прошли летом, а следующее мы планируем на декабрь 2025 года.
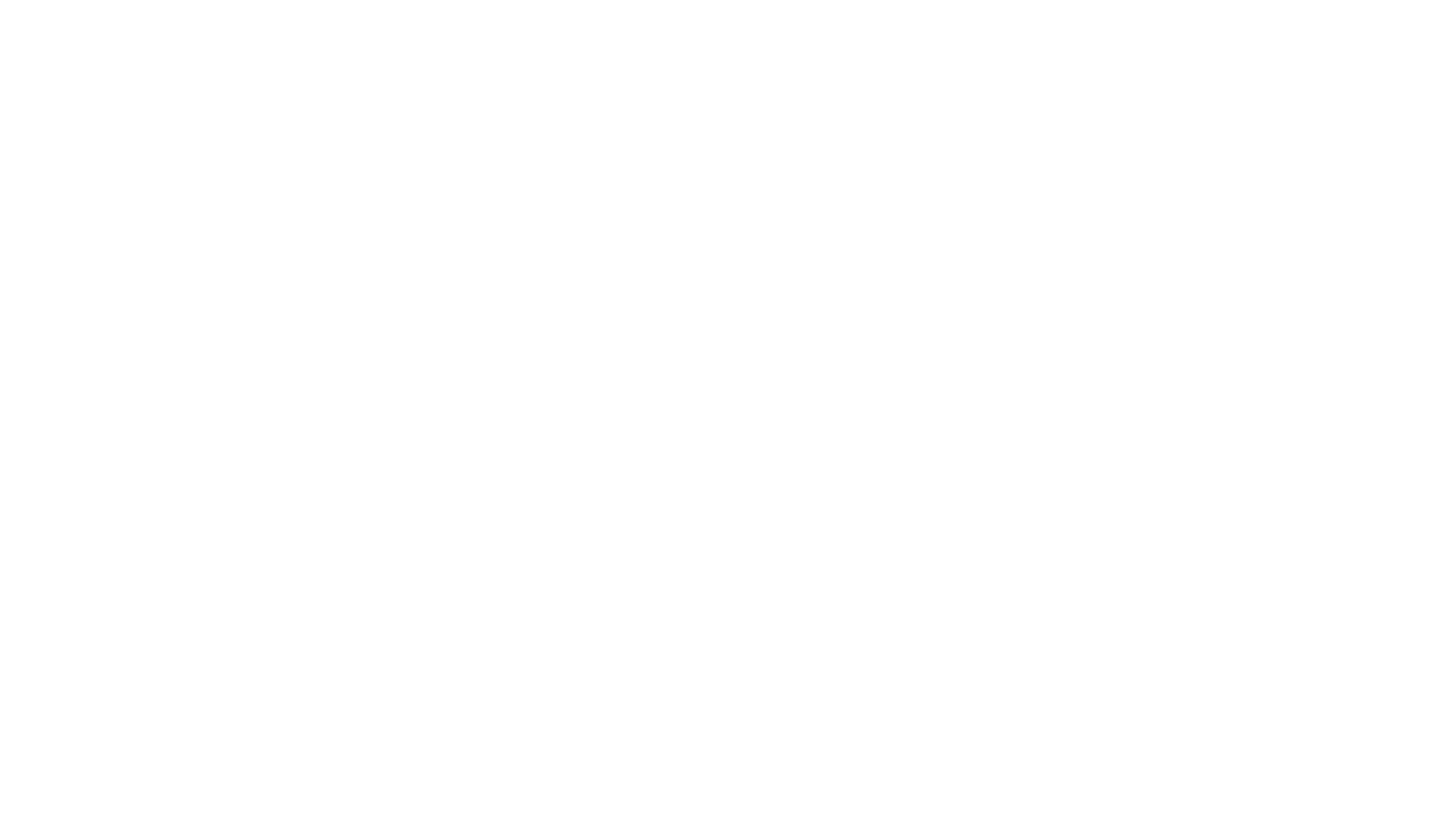
Сколько сейчас на Фабрике резидентов?
Около ста, и все очень разные. Преобладают представители креативных индустрий - издательство, архитекторы, дизайнеры, художники, люди, которые работают с модой. Есть обслуживающая инфраструктура: две типографии, кейтеринг, кофейня и легендареая столовая ОГИ. Поскольку мы сфокусированы на творческом/производственном процессе, очень удобно иметь возможность создавать выставки, не выходя за пределы территории, под одной крышей, начиная с изготовления любых конструкций, заканчивая печатью пресс-релизов и афиш, и организацией фуршетов. Такая горизонтальная среда взаимодействия внутри Фабрики — между художниками и другими резидентами — очень ценна для нас.
Какие у Вас планы на ближайший год?
Сейчас практически подошел к исполнению план, который мы вынашивали последние два года. Он был связан с трансформацией наших пространств- как публичных, так и сообщества резидентов. Например, частью этого плана было экстенсивное развитие издательства Ad Marginem. Еще несколько находятся на финальной стадии расширения своего присутствия, например, вдвое увеличился сьемочный павильон Московской школы кино. В части публичных /общественных пространств мы заканчиваем ремонт и переоткрываем Цех Отделки как выставочный зал . Так что все основные задачи этого этапа практически выполнены. Хочется зафиксировать и проанализировать результаты проделанной работы, и уже после этого двигаться дальше.
Как у Вас составляется выставочный план?
На год вперёд. С 2025 года мы в большей степени увязали и выстроили график в соответствии с нашими программами: Поздняя осень и зима — итоговые выставки фабричных мастерских. С мая по сентябрь — студенческие выставки программы «Сцепление». Между ними — сторонние проекты, которые поступают по инициативе кураторов и художников извне.
Около ста, и все очень разные. Преобладают представители креативных индустрий - издательство, архитекторы, дизайнеры, художники, люди, которые работают с модой. Есть обслуживающая инфраструктура: две типографии, кейтеринг, кофейня и легендареая столовая ОГИ. Поскольку мы сфокусированы на творческом/производственном процессе, очень удобно иметь возможность создавать выставки, не выходя за пределы территории, под одной крышей, начиная с изготовления любых конструкций, заканчивая печатью пресс-релизов и афиш, и организацией фуршетов. Такая горизонтальная среда взаимодействия внутри Фабрики — между художниками и другими резидентами — очень ценна для нас.
Какие у Вас планы на ближайший год?
Сейчас практически подошел к исполнению план, который мы вынашивали последние два года. Он был связан с трансформацией наших пространств- как публичных, так и сообщества резидентов. Например, частью этого плана было экстенсивное развитие издательства Ad Marginem. Еще несколько находятся на финальной стадии расширения своего присутствия, например, вдвое увеличился сьемочный павильон Московской школы кино. В части публичных /общественных пространств мы заканчиваем ремонт и переоткрываем Цех Отделки как выставочный зал . Так что все основные задачи этого этапа практически выполнены. Хочется зафиксировать и проанализировать результаты проделанной работы, и уже после этого двигаться дальше.
Как у Вас составляется выставочный план?
На год вперёд. С 2025 года мы в большей степени увязали и выстроили график в соответствии с нашими программами: Поздняя осень и зима — итоговые выставки фабричных мастерских. С мая по сентябрь — студенческие выставки программы «Сцепление». Между ними — сторонние проекты, которые поступают по инициативе кураторов и художников извне.

А Вы сами коллекционируете искусство?
Не могу назвать себя коллекционером или собирателем в том смысле, в каком сейчас принято употреблять этот термин (участие в аукционах, приобретите с целью инвестиций, выстраивание состава коллекции в соответствии с определенной концепцией и пр.). Но могу сказать, что очень люблю искусство и неизменно испытываю радость и благодарность, когда художники дарят мне свои работы — а это происходит довольно часто. Я не коллекционер, но коллекция постепенно растёт и пополняется.
А сами Вы покупали искусство?
Это бывает, нечасто. Я очень люблю графику. Она интересует гораздо больше, чем холст и масло. И всё, что я покупала, было графикой. В основном работы Никиты Алексеева, Сергея Волкова.
Что посоветуете молодым художникам?
Работа художника — это такая же работа, как и многие другие. Она требует настойчивой ежедневной практики, чтения большого количества литературы, и, безусловно, навыков общения и самопрезентации. Возможно, последнее - самое сложное, потому что есть масса нюансов, в целом определяемых правилом «что принято, что не принято». Одни галеристы не рассматривают «холодный маркетинг», когда художник рассылает свои портфолио без предварительного знакомства, другие, наоборот, не любят протекционизм и рекомендации, и т.п. и т.д. Плюс, у нас не очень развита практика активного посещения мастерских арт-дилерами для знакомства с художниками и отсмотра работ, акторы арт-рынка не очень часто ходят на выставки в другие институции Так что я просто посоветую всем художникам не ждать быстрых результатов, быть готовыми к долгой и упорной работе и найти баланс между тремя составляющими: творчеством как таковым, самопрезентацией и образованием.
*ФотографТаня Сушенкова
Не могу назвать себя коллекционером или собирателем в том смысле, в каком сейчас принято употреблять этот термин (участие в аукционах, приобретите с целью инвестиций, выстраивание состава коллекции в соответствии с определенной концепцией и пр.). Но могу сказать, что очень люблю искусство и неизменно испытываю радость и благодарность, когда художники дарят мне свои работы — а это происходит довольно часто. Я не коллекционер, но коллекция постепенно растёт и пополняется.
А сами Вы покупали искусство?
Это бывает, нечасто. Я очень люблю графику. Она интересует гораздо больше, чем холст и масло. И всё, что я покупала, было графикой. В основном работы Никиты Алексеева, Сергея Волкова.
Что посоветуете молодым художникам?
Работа художника — это такая же работа, как и многие другие. Она требует настойчивой ежедневной практики, чтения большого количества литературы, и, безусловно, навыков общения и самопрезентации. Возможно, последнее - самое сложное, потому что есть масса нюансов, в целом определяемых правилом «что принято, что не принято». Одни галеристы не рассматривают «холодный маркетинг», когда художник рассылает свои портфолио без предварительного знакомства, другие, наоборот, не любят протекционизм и рекомендации, и т.п. и т.д. Плюс, у нас не очень развита практика активного посещения мастерских арт-дилерами для знакомства с художниками и отсмотра работ, акторы арт-рынка не очень часто ходят на выставки в другие институции Так что я просто посоветую всем художникам не ждать быстрых результатов, быть готовыми к долгой и упорной работе и найти баланс между тремя составляющими: творчеством как таковым, самопрезентацией и образованием.
*ФотографТаня Сушенкова


